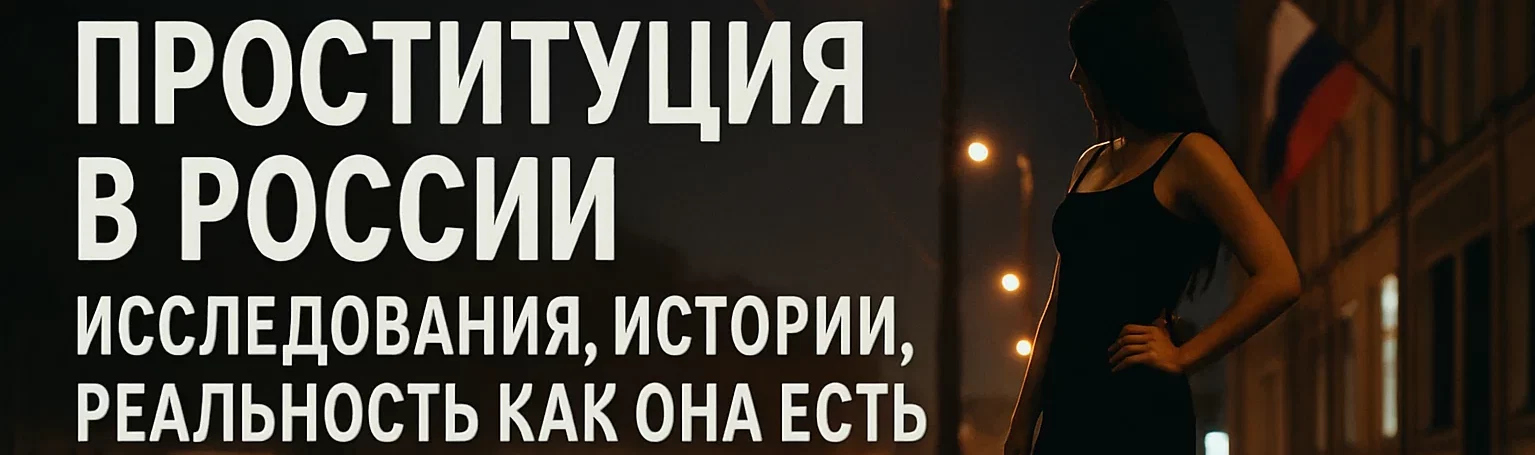От царской России до современности: эволюция отношения к проституции в российском обществе

Три столетия российской истории раскрывают сложную динамику отношений между государством, обществом и женщинами, оказавшимися в крайних жизненных обстоятельствах. От строгих запретов до легализации, от советских экспериментов до современных дилемм — каждая эпоха формировала свой подход к одной из самых противоречивых социальных проблем.
Истоки запретов: от Ивана Грозного до Екатерины Великой
История российского отношения к проституции начинается с категорических запретов. В российском законодательстве XVIII века сложилась система криминализации — «непотребство», как наши предки именовали проституцию, запрещали и при Иване Грозном, и при Петре I, и при Екатерине II. Эти меры отражали не только моральные установки православного общества, но и стремление государства контролировать социальный порядок.
Устав благочиния 1782 года карал как проституцию, так и сводничество заключением в смирительный дом сроком на полгода. Однако строгость законов не могла изменить социальную реальность. Уже в середине XVIII века появились первые организованные формы торговли интимностью — немка Анна-Кунигунда Фенкер по прозвищу «Дрезденша» приехала в Петербург и позже сняла большой деревянный дом, куда съезжались холостые мужчины со всей России.
Попытки искоренения этого явления оборачивались масштабными скандалами и арестами сотен людей, что лишь подчеркивало масштаб проблемы и неэффективность репрессивных мер.
Прагматизм империи: легализация как компромисс (1843-1917)
Переломный момент наступил в правление Николая I. Фактически проституцию легализовал император Николай I, утвердив в 1844 г. «Правила для публичных женщин и содержателей борделей». Это решение стало результатом не либерализации взглядов, а жесткого прагматизма: главной причиной ее «терпимости» в середине XIX в. явилась организация контроля над ней как над основной виновницей распространения венерических заболеваний.
Система врачебно-полицейского надзора, созданная по европейскому образцу, представляла собой попытку государственного контроля за неконтролируемым явлением. Утвержденные царем «Правила для публичных женщин и содержателей борделей» пытались защищать и права проституток — работать в «домах терпимости» разрешалось только с 21 года, в любой момент «падшая женщина» имела право покинуть бордель.
В 1901 году в России было зарегистрировано 2400 публичных домов, в которых работало свыше 15000 женщин. Легализация создала целую индустрию с собственной иерархией и правилами. В некоторых борделях был принят «национальный стиль»: можно было уединиться с «грузинской княжной», «пылкой испанкой», «русской красавицей».
Однако юридическая легализация проституции не привела к искоренению массы связанных с нею проблем, однако способствовала хоть какому-то контролю со стороны медиков и властей. Женщины получали «желтые билеты» — специальные документы, заменявшие паспорта, что фактически создавало отдельную социальную касту.
Советский эксперимент: между идеологией и реальностью
Октябрьская революция 1917 года принесла кардинальные изменения. После Февральской революции административное регулирование проституции было отменено и проституция перестала быть профессией. Новая власть столкнулась с дилеммой: как поступить с «наследием царского режима»?
В ноябре 1916 года газета «Биржевые ведомости» предположила, что в стране существует целая армия публичных женщин, численность которых достигает чуть ли не нескольких миллионов. Большевики предложили радикальное решение: в мае 1919 года в Петрограде создали первый в стране концлагерь принудительных работ для женщин. К началу 1920 года через него прошли 6,5 тысяч женщин.
Советская идеология рассматривала проституцию как порождение капитализма. Советское государство определяло проституцию как преимущественно экономическую проблему, результат недооценки женского труда в дореволюционный период. Проституция была «нежелательным пережитком капиталистического прошлого, который должен был быть искоренен, как только женщины достигнут социального, политического и экономического равенства через социализм».
Парадокс советского подхода заключался в том, что идеологическое отрицание нисколько не мешало фактическому существованию проституции в СССР, в том числе в криминальных организованных формах. Особые статьи, наказывающие за проституцию, в советских кодексах до 1987 года отсутствовали, но проститутки могли подвергаться преследованиями по другим статьям уголовного и административного кодексов.
Невидимая реальность
В 1956 году советский Уголовный розыск располагал документом, в котором содержались сведения о 600 проститутках, работающих в Ленинграде (это только те, кого удалось вычислить в ходе «оперативных мероприятий»). Ситуация усложнилась в 1950-60-е годы: с середины 50-х, когда число приезжающих в СССР иностранцев стало измеряться десятками тысяч, в стране расцвела валютная проституция.
Социальный состав проституток изменился. Если до революции подавляющее большинство составляли крестьянки, то теперь их место заняли сотрудницы бесконечных советских контор. Получая «мизерное жалованье», женщины таким образом пополняли свой бюджет.
Официальное признание проблемы произошло лишь в 1986 году, когда в Кодекс об административных правонарушениях РСФСР была внесена статья 164-2, карающая за занятие проституцией штрафом в 100 рублей. Это стало следствием публикаций в «Московском комсомольце», которые «вывели газету на общесоюзный уровень цитирования».
Постсоветская трансформация: между либерализацией и контролем
Распад СССР открыл новую страницу в истории российского отношения к проституции. В годы перестройки эта тема становится модной, причем торговля телом часто воспринимается как способ противостояния тоталитарной идеологии. Проститутки перестали скрываться от милиции и общественности, из-за чего некоторые улицы Москвы и Питера превратились в настоящие выставки живого товара.
Фильм «Интердевочка» стал культурным феноменом, романтизировавшим проституцию как «выход из беспробудной нищеты и возможность устроить свою жизнь». Однако романтический период быстро сменился жестокой реальностью.
Современное законодательство и социальная реальность
В современной России проституция регулируется как «не основанное на личных симпатиях систематическое вступление в сексуальные отношения за вознаграждение», является административным правонарушением. Штраф составляет от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.
Масштабы явления остаются предметом споров. По данным МВД, в России своим телом торгуют почти миллион человек. Лидер Ассоциации секс-работниц Ирина Маслова утверждает: «Нас 3 миллиона человек: бесправных, унижаемых, поставленных государством вне закона».
По данным МВД, в России занимаются проституцией 1 млн. женщин. Правозащитники уверены, что показатель в три раза выше. Ежегодный оборот российского рынка секс-услуг оценивается в 700-800 млн. долл.
Международный контекст и торговля людьми
Особую остроту проблеме придает международное измерение. Эксперты ООН подсчитали, что больше половины всех секс-рабов мира поставляется из России. По данным экспертов, российские граждане составляют большую часть из общего числа тех, кого переправляют с целью сексуальной эксплуатации в страны Западной Европы, Ближнего Востока и Северной Америки.
Авторы исследования утверждают, что лишь незначительная часть жертв (от 10 до 20%) начинают заниматься проституцией добровольно. Это заставляет переосмыслить саму природу явления — от «древнейшей профессии» к форме современного рабства.
Современные дебаты: поиск решений
Сегодня российское общество стоит перед сложным выбором подходов к проблеме проституции. Проституция в России — это тема, которой как будто не существует в публичном дискурсе. Глобальное представление государства о проблеме проституции — это «если закрыть глаза на проблему, то проблема исчезнет сама по себе».
Дилемма легализации
Дискуссии о легализации разделили общество. В 2007 году руководство партии ЛДПР вышло с инициативой о легализации проституции в России, аргументируя это экономическими и безопасностными соображениями. Однако эта инициатива не была одобрена большинством в российском парламенте.
По результатам голосования по петиции РОИ в 2017 году, сторонники ужесточения наказания за проституцию составляют примерно 30% от общего числа проголосовавших. По данным соцопросов Левада-центра, в 1997 году ужесточение наказания поддерживали 32%, а в 2015 году — 56% россиян.
Человеческое измерение
За статистикой и законами стоят конкретные судьбы. В России проституция нелегальна. И проблема здесь не в штрафах в две тысячи рублей, проблема в том, что государство не предоставляет никакой защиты, никаких социальных гарантий. Как отмечают правозащитники, в случае с секс-работницами логика «сама виновата» доходит до абсолюта: мол, как можно изнасиловать проститутку, ей же за это платят.
По разным оценкам, в России вовлечено в проституцию и коммерческую сексуальную эксплуатацию от 3 до 5 миллионов человек. Эти цифры отражают не только масштаб явления, но и глубину социальных проблем, которые его порождают.
Заключение: уроки истории для настоящего
Три столетия российской истории демонстрируют, что отношение к проституции всегда отражало более широкие вопросы о женской автономии, социальной справедливости и роли государства в регулировании интимности. От запретов царской эпохи через советские эксперименты к современным дилеммам — каждый подход имел свои достоинства и недостатки.
История показывает, что ни полный запрет, ни безусловная легализация не решают фундаментальных проблем. Центральным остается вопрос о том, как обеспечить защиту человеческого достоинства и безопасности наиболее уязвимых членов общества, не отвергая их и не превращая в изгоев.
Современная Россия унаследовала все противоречия прошлого: формальные запреты сосуществуют с фактической терпимостью, моральное осуждение — с экономической реальностью, а стремление к порядку — с нежеланием признавать масштабы проблемы. Поиск решений требует не только законодательных изменений, но и глубокой трансформации общественного сознания — от осуждения к пониманию, от игнорирования к признанию человеческой ценности каждой жизни.
В этом контексте опыт таких реформаторов прошлого, как Жозефин Батлер в Великобритании, которая боролась за права женщин, оказавшихся в проституции, остается актуальным. Ее подход — видеть в проституции не проявление распущенности, а следствие социально-экономических факторов — предлагает альтернативу как карательным, так и либеральным решениям.
Будущее российского подхода к этой проблеме будет определяться не только политическими решениями, но и готовностью общества к честному разговору о наиболее болезненных социальных вопросах. История учит: устойчивые решения возможны только тогда, когда они основаны на сочетании прагматизма и гуманизма, признания реальности и стремления к справедливости.